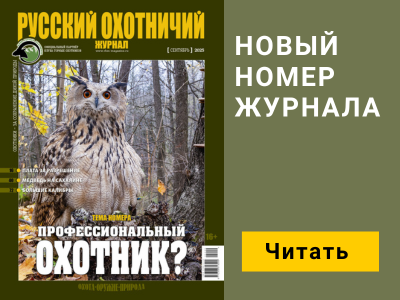Так поражает молния, так поражает финский нож!
М. Булгаков. Мастер и Маргарита
Слово «финка» на просторах бывшего Советского Союза в настоящее время известно в одном вполне конкретном значении: нож. Или, иначе, финский нож. В наши дни, благодаря снятию ограничений времён СССР и деятельности энтузиастов – коллекционеров, поисковиков, мастеров-ножеделов и др., – облик современной финки вполне сложился: это различные модели ножей, напоминающие финские пуукко, выполненные по образцам советской поры, времён Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, с рукоятками из плексигласа, берёсты, алюминия и т. д. Но во времена СССР категория ножей, которые в народе было принято именовать финкой, была куда шире. Так какие же ножи в СССР относили к «финкам», а какие нет, и почему так повелось, что среди прочих ножей советского периода их было принято выделять в отдельную особую категорию?
Мода в народной среде на так называемые финские ножи, изготовленные на мануфактурах Великого княжества Финляндского, начинается в России ещё в конце XIX века, в те времена, когда вышеупомянутое княжество входило в состав Российской Империи. Как и почему эти ножи завоевали российский рынок и стали популярными – рассказывать не стану: при желании можно найти массу замечательных описаний данного вопроса от куда более сведущих авторов. Упомяну лишь, что на рубеже XIX–XX веков сравнительно недорогие и качественные финские ножи стали весьма распространённым товаром и приобрели заслуженную любовь у представителей различных сословий старой России. Популярность достигла такого уровня, что их даже начали подделывать на русских ножевых мануфактурах. Именно подделывать: с фальшивыми клеймами и прочими атрибутами подлинности. Те, кто был честнее, предлагали свои модели ножей, созданные на манер финских.
 Финский нож пуукко времён Второй мировой войны, изготовленный для армии. Фото Ильи Афанасьева
Финский нож пуукко времён Второй мировой войны, изготовленный для армии. Фото Ильи Афанасьева
Однако вернёмся к названию. Слово «финка» в дореволюционной России, согласно словарю Даля, имеет вполне определённое и конкретное значение: «суковатка, смык, смыка, волокушка, скородилка – борона из суковатого ельника». В подтверждение слов Владимира Ивановича отмечу, что такой тип бороны действительно очень долгое время сохранялся в сельскохозяйственном инструментарии едва не всех финских народов, занимавшихся земледелием. Никаких упоминаний ножа при этом ни у Даля, ни у других знатоков и собирателей русской словесности периода Имперской России мы не найдём.
Применительно к ножу название «финка» появляется в обиходной речи, вероятно, не ранее 1920-х годов, в уже Советской России. Появлению этого значения способствовали разгул хулиганства, преступности и бандитизма в первые годы советской власти, в связи с чем финский нож уж очень часто стал упоминаться в разделах криминальной хроники периодической печати. Из-за частого употребления «финский нож» сокращается до «финки», вытесняя при этом старые значения этого слова.
 Современные финки, изготовленные по мотивам соттапуукко: финских ножей времён Советско-финляндской войны. Фото Вячеслава Демидова
Современные финки, изготовленные по мотивам соттапуукко: финских ножей времён Советско-финляндской войны. Фото Вячеслава Демидова
Вероятно, одним из первых новое сокращение начинает использовать ежемесячный журнал Народного комиссариата внутренних дел «Административный вестник», где в публикации от 1925 года некто Максимов приводит типичный портрет городского хулигана: «Он вооружён: перчатка, кастет, финка, а иногда и предмет всех высших желаний хулигана – шпалер-револьвер – всегда при нём». В итоге к 1928 году криминальная слава финских ножей достигла своего апогея, или, вернее, границ предела терпения официальных властей: финский нож был причислен к холодному оружию. Отныне его изготовление, хранение, сбыт и ношение, наравне с кинжалами и «тому подобным холодным оружием», допускалось только с «разрешения НКВД в установленном порядке».
Великое княжество Финляндское, к тому времени уже давно вышедшее из состава Российской Империи, стало самостоятельным независимым государством. В эти годы история финской ножевой промышленности совершила очередной рывок: ножи местного производства, ставшие в своё время столь популярными в России, становятся там одним из новых этнокультурных брендов. Это и не мудрено: новой независимой стране срочно понадобились своя история и свои образцы национального и культурного достояния, никак не связанные с общим российско-финляндским прошлым. В итоге национальные ножи там любят, ценят и культивируют. И теперь уже эти новые ножи ждут своего часа, чтобы вновь вернуться в Россию после 1939 года с ветеранами Советско-финляндской, а затем Великой Отечественной войн, чтобы породить по всему Советскому Союзу моду на армейские самоделки с наборными рукоятями из плексигласа и алюминия.
 Традиционный нож южных коми из Прилузского района Республики Коми. Фото автора
Традиционный нож южных коми из Прилузского района Республики Коми. Фото автора
Несмотря на то что в Советскую Россию после революции финские ножи больше не поставляются, в 1920–30-е годы они остаются всё такими же популярными и всё так же производятся разными артелями и кустарями, на законных правах и в криминальных подворотнях. На этом отрезке времени окончательно формируется такое новое явление в ножевой культуре, как русская финка. И этому явно способствовал приток «свежей крови».
Дело в том, что, вероятно, в это время название «финка» начинает медленно и верно сползать с чисто финских ножей и на конструктивно схожие с финскими национальные ножи других финских народов России, которые, в отличие от финнов (и эстонцев), никуда не делись. Ножи оставшихся финских народов – коми, удмуртов, карел, марийцев, вепсов и др., – которые в этнографических очерках XIX века было принято именовать «наши финны», подчас не так сильно отличались между собой и были конструктивно весьма схожи и с традиционными старыми пуукко прибалтийских финнов (собственно, название финского ножа пуукко переводится как «нож с деревянной рукояткой» – конструкция, повсеместно характерная для всех финских народов России).
 Армейский нож, созданный на основе завьяловской финки, в комплектации водолазного ножа. Фото из открытых источников
Армейский нож, созданный на основе завьяловской финки, в комплектации водолазного ножа. Фото из открытых источников
Так, в связи с этим в первой половине XX века – 1920–40-х годах – появляется такое название, как «финка-зырянка», которое позже вошло в словари фени и блатных жаргонов. Речь идёт об одном из вариантов традиционного ножа коми, который «ушёл в народ» через лагеря и спецпосёлки системы ГУЛАГ, расположенные на территории Коми АССР. Название «финка» приклеилось и к нескольким вариантам русских ножей, происхождение которых от финских пуукко ставится под сомнение. Это так называемые завьяловские финки, появившиеся ещё задолго до революции и позже выпускавшиеся на предприятии «Труд-Вача», и те, что ныне часто называют «финкой с сучком» – ножи с рукоятью особой формы, происхождение которой связывают с русской традицией.
Тот факт, что для старого поколения советских людей, особенно прошедших войну, финка выделялась в отдельную категорию ножей, не вызывает никакого сомнения. Это мы можем видеть и по вышеупомянутой статье 128 УК РСФСР от 1928 года, и даже в обиходной речи (достаточно вспомнить фразу из популярного фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Бросай оружие! Ножи, финки – на снег!»). Но по каким признакам их отличали от ножей других типов и почему один нож называли финкой, а другой – нет?
 Ещё один нож с юга Коми. Никакого отношения к финским пууко он не имеет. Фото автора
Ещё один нож с юга Коми. Никакого отношения к финским пууко он не имеет. Фото автора
В интернете можно встретить массу различных критериев и признаков «настоящих финок» от различных авторов: наличие скоса обуха «щучкой», особые формы навершия рукояти либо форма рукояти бочкообразной формы и – да простят меня за это неприличное слово – наличие «кровостоков». Скажу сразу: лично мне эти критерии кажутся более чем спорными, так как могут присутствовать – причём одновременно – на ножах многих народов, никак не относящихся к финнам. А потому полагаю, что в данной ситуации следует отталкиваться от иных исходных параметров.
Как уже было упомянуто выше, помимо финнов бывшего Великого княжества Финляндского в России проживали и проживают до сих пор представители практически всех финских народов. Традиционные ножи волжских, пермских и прибалтийских финнов всегда отличались простотой и конструктивно были весьма схожи между собой (и старые финские ножи – предки «мартини» и иже с ними – из этой линейки ничуть не выпадают). При этом есть несколько существенных признаков, которые характерны для этих ножей и неукоснительно присутствуют в ножевых традициях всех финских народов:
- сравнительно узкий прямой клинок, ширина которого никогда не превышает ширину рукояти, с прямым обухом, который мог иметь скос (прямой или «щучкой» – не важно);
- монтаж рукояти всегда осуществляется всадным способом (никаких накладных рукоятей) на узкий хвостовик, расположенный примерно на одной линии с центральной осью клинка;
- отсутствие каких-либо упоров между клинком и рукоятью. В традициях финских народов их не было никогда, от слова «совсем». Нож удерживался в руке определёнными хватами, которые могли различаться.
 Финка, изготовленная по мотивам советского ножа норвежского типа. Но это – именно финка! Фото Вячеслава Демидова
Финка, изготовленная по мотивам советского ножа норвежского типа. Но это – именно финка! Фото Вячеслава Демидова
Считаю, что именно эти три параметра и следует рассматривать как главные отличительные признаки финки, то есть ножа, изготовленного по мотивам ножей финских народов.
А как же, спросите вы, следует относиться к тем моделям ножей, которые выпускались в Финляндии на основе традиционных и имели при этом упор-ограничитель? А так и скажу: исключения лишний раз подтверждают правило. Данные модели, как правило, выпускались с учётом потребностей интуристов-нефиннов, не умеющих нормально держать этот нож. Да и смотрятся эти ограничители на таких ножах как нечто откровенно чужеродное.
Ну и напоследок несколько слов о финке в армии. Несмотря на популярность этих ножей в дореволюционной России, им так и не удалось послужить в армии в официальном статусе штатных армейских ножей. В Советской России, весьма обедневшей после революции и Гражданской войны, финские ножи собственного производства до армии всё же добрались. Так, не позднее 1937 года в инженерные войска РККА поступил один из вариантов финки предприятия «Труд-Вача», к тому времени уже выполнявшего в основном заказы НКВД. Нож, прототипом которого стала та самая завьяловская финка, упомянутая выше, изготавливался в нескольких размерах с различной длиной клинка и рукояти. Один из вариантов ножа комплектовался специальным набором дополнительных аксессуаров в виде резиновой муфты на рукоять, резиновых ножен, верёвочной петли и запонки, при помощи которых он превращался в «нож водолаза».
 Происхождение рукояти «с сучком» некоторые склонны относить не к финской, а к русской традиции. Фото Вячеслава Демидова
Происхождение рукояти «с сучком» некоторые склонны относить не к финской, а к русской традиции. Фото Вячеслава Демидова
Кстати, подозреваю, что именно эти ножи и именовались в своё время стариками-ветеранами «финкой НКВД», а вовсе не нож норвежского типа, выпускавшийся на том же предприятии «Труд-Вача» на базе шведского охотничьего ножа Хольмберга. Ошибка закралась, вероятно, в 1990-х – 2000-х, когда в результате некоторого смягчения законов и возросшего интереса к ножам все кому не лень начали издавать различные книги и сборники, посвящённые данной теме. Книги эти подчас были просто битком набиты непроверенными данными и откровенными ошибками, так как редакционная правка и цензура, тем паче в столь узких областях знаний, к тому времени были уже напрочь «побеждены» как «пережиток тоталитарного прошлого». В итоге нож, проходивший по документам как «нож норвежского типа» и действительно входивший в состав вещевого довольствия сотрудников НКВД, был кем-то переименован в «финку НКВД», на самом деле таковой не являясь.
То же касается и ножа разведчика НР-40 (НА-40) – именно ножа, происхождение которого иногда почему-то упорно связывают с финскими ножами, не замечая при этом целого набора существенных различий. Скажу тут лишь одно: малой сапёрной лопатой тоже очень удобно рубить мелкие деревья, однако топором её почему-то никто не называет.
Таким образом, финка – это уникальное явление русской, а точнее сказать – советской ножевой культуры, которое, появившись из моды на популярные финские ножи, со временем сформировалось в самостоятельную ветвь развития ножа, подобно тому, как в своё время знаменитые мечи из Кореи породили в Японии уникальное явление, ныне именуемое катана, или японский меч.